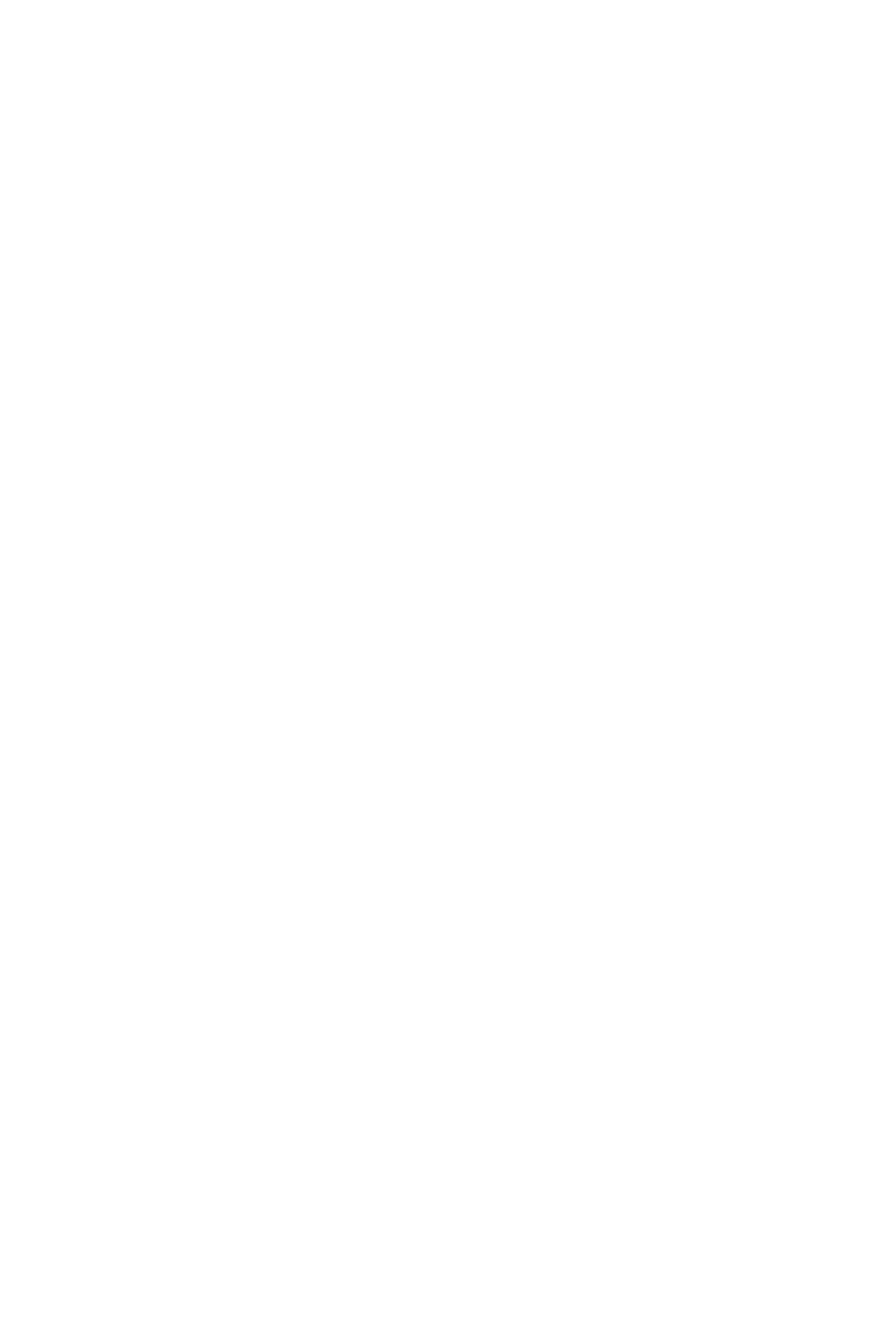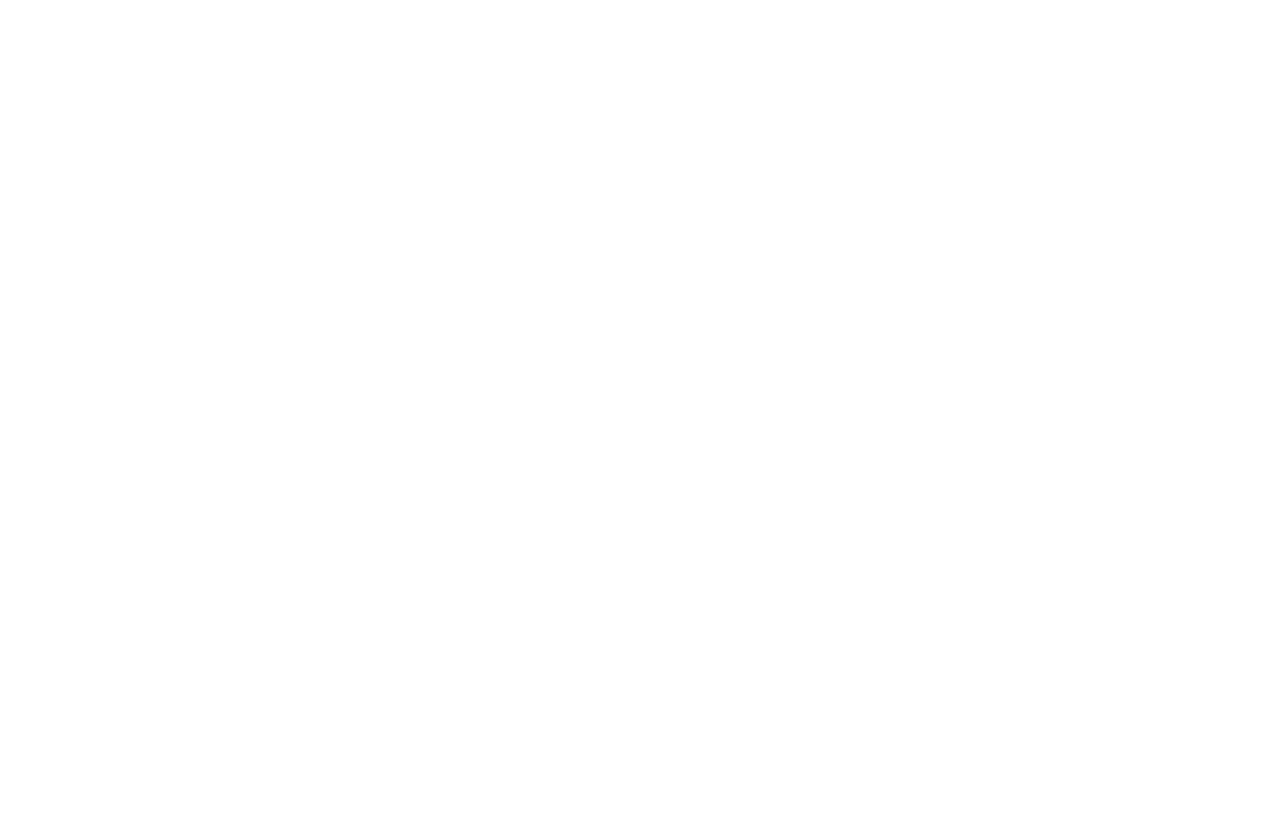Вячеслав Хисамутдинов
Таксисты видят сон
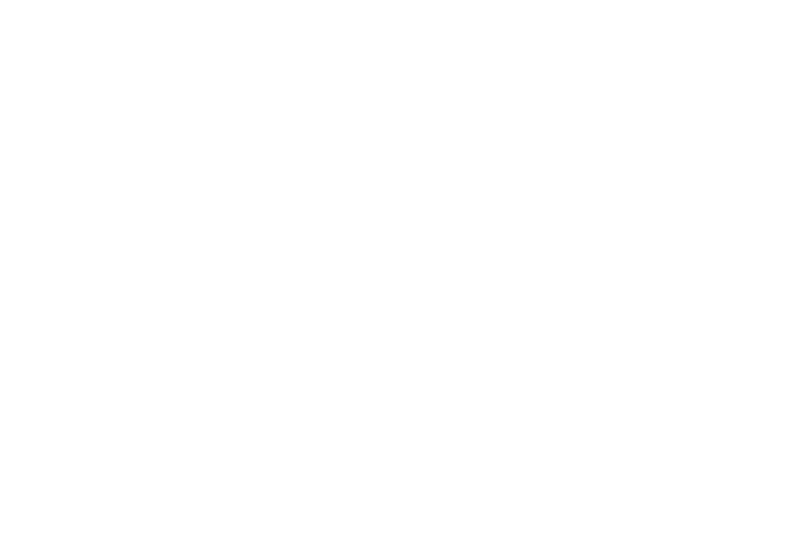
Таксисты спят под радио «Шансон».
Им всем один и тот же снится сон.
Там город опускается во тьму,
как вертолет, хлебнувший хлеб трясины.
Там девочка идет за апельсином,
а попадает в снежную Россию
в две тысячи шестнадцатом году.
Им видится больничная палата,
татуировка на руке медбрата.
Он отворачивает узкое лицо,
и веки покрываются пыльцой.
Он говорит крамольные слова…
Связь обрывается, настроившись едва.
Под белый шум таксисты чутко спят.
Их рации не ловят больше волны.
И перекрёстки, вырванные с корнем,
мигают фарами, освобождая ряд.
В уютных креслах ветровые стёкла
виски массируют и мерно говорят
о том, как на границе войны, войны.
Войны…
Здесь же — край широкий тишиной объят.
Асфальтовая чёрная река
уносит прочь прокуренные души.
И в плёнке радужной поверх стеклянных луж
бордюров проплывают берега.
Так ночь вгрызается в стремящийся наружу
бесплотный смог, проявленный едва.
Ревут заводы.
Чёрный ворон вьётся
над кладбищем расплавленных машин.
Скребёт в окно вороньей чёрной костью,
осколком жести мечется в тиши.
Таксисты спят. Таксисты видят явь.
Под струнами распахнутых созвездий.
Съедает свет изрезанный асфальт,
прогнувшийся от града звёздных лезвий.
И вновь разметка млечного пути
ведёт туда, откуда не уйти.
Гудят в тяжёлом небе провода,
передавая богу телеграмму
о том, что жизнь на острие креста
не каждому бывает по карману.
И кажется, что главы за спиной
написаны другим, а не тобой.
И хочется переписать страницы.
Но ворон на постель твою садится,
и снова руль, дороги, города
мерещатся сквозь веки и года.
Затягивает ночь туман - тосол:
заправки, светофоры, магазины…
Вселенная кипит в пятне бензина.
Там девочка идёт за апельсином…
Таксисты спят, таксисты видят сон.
***
Наша жизнь порой лишена сюжета.
Ты стоишь у окна в паутине света.
На резных лопатках играют тени.
Я закрыл глаза, вспоминая, где мы
В ту жару отыскали на миг друг друга.
Сколько лет прошло и пройдёт по кругу.
Я закрыл глаза, вспоминая кто мы.
Так кружит оса у виска. И чтобы
Сохранить этот день в черепной коробке,
Я сжимаю вдох в напряжённой глотке.
Мотыльком в горсти серебрится утро.
Ты сейчас ко мне обернёшься, будто
Ничего не случилось за эти годы.
Так скребёт игла по винилу. Что бы
Ты могла сказать, обретя реальность?
Что тебе и мне только миг осталось –
Окунуться в прорубь последней встречи.
Я шепчу в ответ, словно станет легче,
Что съедает хронос любые чувства.
И сжимаю зубы во тьме до хруста.
***
Мы все лишь переводчики — не боле,
И нашей в том заслуги вовсе нет,
Когда из тишины и вязкой боли
Рождается строфа или куплет.
Когда на белоснежный лист ложится
Размашистая чёрная строка —
Любой из нас всего лишь машинистка,
Или одна из рук — Его рука.
И даже если целый мир поверил
В бесстрастный гений твоего стиха,
Ты остаёшься вечным подмастерьем,
Заложником родного языка.
***
Смывая след кровавого коня
в густой слюне украденного солнца,
калитка крыльями о мокрый воздух бьётся.
По доскам вниз течёт горчичный яд,
и голос тенью заслоняет яблонь ряд,
и птицы век с кустами говорят
и всё не могут всласть наговориться.
Там карта контурная неизведанной земли
измазана чернилами тумана.
И одуванчиков белесые зрачки
разглядывают космос, встав попарно
и шеи тонкие ломают от тоски,
укачивая тишиной
материки.
Там нас не ждут,
но мы и сами вряд ли
раскроем временем изъеденные карты,
где воздуху просторно до икоты,
и голова как будто налегке.
Стоять по щиколотку в звёздном порошке
и забывать откуда ты и кто ты.
Как будто линия от мела до виска,
минуя все заборы и каналы,
тебя коснувшись, дрогнула слегка
и на мгновенье чуть живее стала,
в просторную переливаясь вязь.
Уныло звякнул сонный колокольчик...
Там Южный крест висит, перекрестясь
на шее в шаль укутавшейся ночи.
Благая синь – дотянешься, лишь встань.
Так нестерпимо соловей настойчив
и льётся, льётся из кувшина ночь
сквозь листьев ткань
в земные очи.
***
Пообщайся со мной на любые темы.
Темнота порой заменяет стены.
Поцелуй синицей расправит воздух.
Расскажи мне себя, пока не поздно.
Там, за дверью, проносятся дни недели.
Тени режут насквозь рукава артерий.
Приоткрой окно и садись спиною.
Я — незваный гость со своею болью.
Мы молчим так долго, что в пору слышать,
Как сквозь лёд рыбак наблюдает свыше,
Как две рыбы висят в серебристом свете.
Тишина волной разрывает сети.
Подоконник пуст и солёны губы.
На костре груди остывает уголь.
И прозрачный дым, как вуаль невесты.
Извини, что не вовремя и не к месту.
Извини, что так получилось глупо.
Это лёд в голове и нелепый ступор,
Лабиринт зеркал на границе бреда.
Извини за предельную откровенность эту.
Мы не встретим друг друга ни сном, ни взглядом.
Здесь, по разные стороны баррикады,
Нам, по-прежнему, и тепло, и ровно.
Пообщайся со мной. И захлопни окна.
***
Вокзал плывёт сквозь дымку беляшей
и лай продрогших за ночь электричек.
Ты спрашиваешь в кассе новый день,
нашарив по карманам горсть налички,
ссыпаешь драхмы в узкую ладонь.
"Платформа номер два", — скрипит динамик.
Подходит старичок в смешной панаме
и хрипло представляется: "Харон".
Уже белесый утренний туман
откусывает голову вокзалу.
Ты в лодку забираешься устало,
на полку верхнюю бросая чемодан.
Вагоны трогаются, покидая гавань,
и стрелки каменеют на часах.
. . .
Горят сквозь веки солнце и леса,
за треснувшим окошком мокнет ветер.
Глухой колёсной партии ансамбль,
и тишину терзающие дети.
Ты между ними – тень от тени, со-
размеренный с безвременьем в сюжете.
Твой проводник сегодня молчалив.
Из точки А до берега иного
скользит веслом, не уронив ни слова.
Ты слышишь, как уключина скрипит,
распарывая криком плотный воздух.
И жизни послевкусие горчит;
и брызги соли на щеках уже не сохнут,
но множатся, сбегая по груди.
. . .
Вот ты стоишь, как в судный час, один,
на ветром омываемой голгофе.
И голос, растворимый в бледном кофе,
диктует длинный список кораблей.
Но каждый раз, дойдя до середины,
сбивается. И поезд журавлиный
уносит в даль бесплотную полей.
Ты слушаешь дыхание камней
и кашель облетевшей прелой хвои.
В какой из дней ты стал пути достоин,
и выбрал свой из россыпи путей?
Мерцает лимфа чёрного заката,
ты вновь готов поставить смерть на карту,
катая шарик слов на языке.
. . .
Сквозь серое ведро с луной по центру
ты набираешь в лёгкие плаценту
и падаешь в пустой зрачок кроту.
Там Данте пишет адскую картину,
и Кай бредёт сквозь ледяную тину,
и Курт подносит сталь ствола ко рту.
На миг, прощаясь с мыслею последней,
ты вспоминаешь, что когда-то тенью
дремал на дне околоплодных вод.
И тишина казалась пошлым гулом.
Но в миг, когда волна тебя вернула,
ты зазвенел, разламывая рот.
Ты свет вдохнул и задохнулся светом,
ты плыл в лучах космического ветра,
немел вопросом и его ответом,
корпускулами и волной при этом.
Но что с того, что ты узрел в начале,
и звезды колыбель твою качали?
Едины сто́роны луны, судьбы, медали:
во многих знаниях есть многие печали.
Весь длинный путь от Альфы до Омеги
ты избегал упоминаний смерти.
И даже финишной виском касаясь ленты,
находишь не закат, а элементы
иной структуры на полотнах Босха.
Та музыка цикад и капли воска
тебя волнуют больше, чем полоска
кардиограммы на экране плоском.
Но будут дни пищать на мониторе,
и солнце спрячется лучом в кипящей шторе.
И медсестра в пустынном коридоре
запомнит звон осы, разбившей полдень.
Заохает, захлопнется фрамуга,
моргнет и щёлкнет лампа близоруко.
И в долгое крещендо чёрным звуком
вопьется человеческий конструктор.
И мать земля отломит ношу вдовью
от сердца, перемолотого кровью.
И постучат встревоженные комья
в еловое окно у изголовья.
***
Она пишет ему:
приду сегодня во сне,
буду в платье на голое,
готовь улун и пионы.
Он отвечает:
жду тебя ещё с прошлой весны. Чай давно на столе.
Я неделю уже не включаю свет.
Сам бы рад уснуть, только сна здесь нет – зря в подушку роняю голову.
Эти месяцы, что ты где-то рядом,
оказались бессмысленными – просто дышишь. Дышишь и ждёшь.
Уж деревья отдали земле наряды и сгорели листвы снаряды.
Бьётся влёт головой о шлагбаумы
неврастеничная ночь.
Чёрный сад
холостыми выстрелами лупит из всех стволов.
Я плыву под гнилыми листьями
немой и выпотрошенный. Слышишь безмолвный мой зов?
Словно свечи пальцы сгорают, рисуя твоё лицо.
Эта память картоном выцвела и осталась в груди свинцом.
Я бы рад уснуть, говорит он, жмурится и сквозь веки глядит во тьму.
Приходи ко мне тёмной улицей, светлой памятью, тёплой водой в пруду.
Я, наверное, не дождусь тебя.
Я, наверное, сам приду.
***
Ну, вот и век прошёл, всего лишь век. Так мало,
что на один глоток. И хочется ещё.
Еще лишь век. Чтоб жизнь не умолкала.
Что будет через век – я помню хорошо.
Там птичий тарарам, запущенный в окошко —
как паводок в постель, как в небе журавли.
Там, рамы серебря, висит луны серёжка.
Я помню этот век, я помню грусть земли.
Ласкайся и ластись, укутанная ветром,
как горизонта ткань, как с чистого листа.
Я помню этот век, он был уже не первым.
Там мы стоим в реке в сияющих цветах.
Там мы стоим в реке в цветах и с облаками,
Нам навык дан узреть, что будет впереди.
Я выпускаю птиц, измученных силками,
ты звёзды им мечтой рисуешь на груди.
***
Взойдёт весна, и мы растаем, словно птицы,
запомнив небо откровенным и пустым.
Где горизонт в немые рельсы глядится,
рифмуется в кипящие кусты.
Взойдёт роса, и солнце скинет платье.
И шрамами покроет тень руки.
Мы далеки от нашего распятья
и потому к прозрению близки.
Мы научились чувствовать печали
на дне зрачков встревоженных синиц.
Далёким городам себя оставив,
листая пролетающие дни.
Как просто - замолкать на полуслове.
Как сложно - не простившись уходить.
Конечны ноты у любых мелодий.
Слова конечны у стихов любых.
***
Летят надежды в поездах
от станции до столь похожей другой.
И мокрое стекло рукой
всё та же девочка тревожит.
А поезд рассекает дым
посёлков и пугает белок.
И скользкие иголки ёлок
ложатся влажною трухой.
Так вечер картой кроет вечер,
так шторками играет ветер.
Так третье тысячелетие
состав идёт по кольцевой.