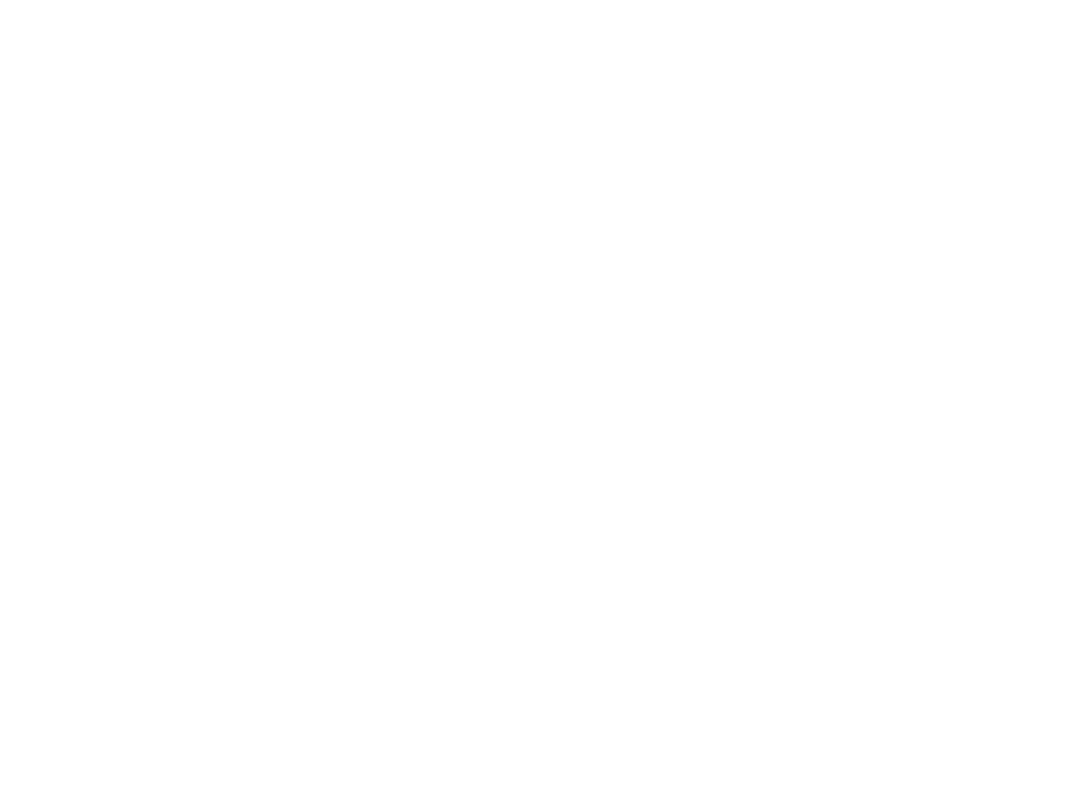Шелуха на чешуе. Калеб Николаевич Орхе
От названия сборника веет игрой. Игрой в удачные созвучия, игрой в поэзию, игрой в самого себя. По прочтении закрепляется ощущение, что ты стал свидетелем одинокой игры ребёнка, родившейся из подручных материалов, игры художника по компиляции разных образов. Где-то эта игра настолько удачна, что строка пробирает и врезается в память. Где-то – остаётся ценной как акт подглядывания за внутренней кухней творящего. Эдаким недособранным замком LEGO.

В предисловии автор даёт ещё один ключ к прочтению, приводя выдержку из Р.Грейвса о важности мифологического мышления и независимого сознания для поэта. Мифологичность как большое количество впитанных мифов и легенд и как стремление создать свою заколдованную реальность – ещё одна черта «Шелухи на чешуе». Читателю приоткрывается сновидческая реальность, живущая по своим законам, не всегда мотивированным логически.
Остановимся на конструктивных элементах сборника. Нельзя обойти вниманием иллюстрации. Сочетание пластичности (почти 3Д объёма) и чб создаёт ощущение тревожности с оттенком безысходности, как будто картинки наступают на читателя. На мой вкус, они нагоняют мрак, но кому-то может прийтись по душе эта эстетика. Удивляет продуктивность художника, если, конечно, это не сам автор. Картинка сопровождает каждое без исключения стихотворения поэта и в какой-то момент теряешься: это сборник стихов с иллюстрациями или выставка картинок со стихотворными подписями? Хотелось бы, чтобы в будущих сборниках читателю оставляли непроиллюстрированные стихи. Чтобы создать собственное впечатление о пространстве текста.
Остановимся на конструктивных элементах сборника. Нельзя обойти вниманием иллюстрации. Сочетание пластичности (почти 3Д объёма) и чб создаёт ощущение тревожности с оттенком безысходности, как будто картинки наступают на читателя. На мой вкус, они нагоняют мрак, но кому-то может прийтись по душе эта эстетика. Удивляет продуктивность художника, если, конечно, это не сам автор. Картинка сопровождает каждое без исключения стихотворения поэта и в какой-то момент теряешься: это сборник стихов с иллюстрациями или выставка картинок со стихотворными подписями? Хотелось бы, чтобы в будущих сборниках читателю оставляли непроиллюстрированные стихи. Чтобы создать собственное впечатление о пространстве текста.

С таким же упорством автор даёт названия своим стихотворениям. Никаких вам «трёх звёздочек» и «по первой строчке». Где-то название работает на приращение и/или углубление смысла, а где-то – оставляет в недоумении. В итоге очаровательные «Кролыбельная», «Травосталость», «Августишь» и проч. соседствуют с названиями «Алисаморе» (Алиса и море), «Приветствиезимы» (Приветствие зимы) и «Нелето» (которое просто «зима»). О том, всем ли стихотворениям сборника нужны названия, предоставим судить автору. Для себя можем объяснить это чертой стиля оформления, проявлением методичности поэта.
Памятуя о правиле края, рассмотрим первое и последнее стихотворение «Шелухи на чешуе». Камертон – «Omen» – подкупает очаровательными:
Тащат грязь весенние потоки,
Распустились птицы и зверьки.
Гвоздь украла синяя сорока –
Вынула у бога из руки.
Но дальше из пены звукописи рождается антихрист в виде, как мы догадываемся, белки. Что в контексте стихотворения для читателя не обосновывается. Можно долго ломать голову над тем, что сделали Христу белки или какие отношения у белок с сороками. Но не стоит. Мы помним, что мышление тут мифологическое, автор не стремится быть понятым, листаем в конец.
Последнее стихотворение – «Домашнее» – почему-то причудливо косплеит «Молитву» М.Ю.Лермонтова.
Сравните:
«Шелуха…»
Есть плитка шоколадная,
Предчувствие бездомное,
И что-то непонятное,
И что-то бесподобное.
«Молитва» (Лермонтов)
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
Пассаж про руку, которая болит без умолку, комментировать не будем. В любом случае, «Домашнее» не тянет на завершающий аккорд сборника. Единственное, чем оно мило – это «предчувствием бездомности», которое возникает именно дома.
Пробежимся по отдельным цепляющим глаз моментам внутри сборника.
Тексты густо заселены животными и птицами: сорока, белка, лиса, сова и другие.
Бросаются в глаза сложные отношения автора с кроликами и зайцами:
«Осталось в шляпе немного зайцев <…> || И давят эти скоты на жалость» и «На подушке рваной прядь волос – Кролик в простыне тебя унес».
Однако само стихотворение «Кролыбельная» хочется причислить к ряду сложившихся текстов сборника. Зловеще и необъяснимо: кролики воинственно проникли в дом, и их вожак утащил лирического героя. Но здесь не ищешь логики: чувствуется пульсация, внутренняя стройность происходящего.
К сожалению, не во всех стихотворениях автору удалось довести воплощение до высоты замысла. Например, «Лестница» сначала ведёт читателя по верёвочному мосту сказочных образов, а потом оставляет ломать «полумёртвый штрифель», «Чтобы первые человеки || Разгадали на пепле шифр». Шифр чего? Если «первые человеки» придут после них, то кто – лирические герои? Минус первые человеки? В подобных местах недосказанность не становится энигматичностью. Вместо ожившего мифа мы получаем историю, рассказанную автором самому себе.
Одно стихотворение хочется привести целиком пример сочетания замысла и его воплощения:
ПРЕСВЯТАЯ ВЕКША
В меня орехом кинули,
Се превеликий грех.
Со звуком древесиновым
Ударил в лоб орех.
Аз зашатался, раненный
Сим плодом между глаз,
От гнилоспелой градины
Создатель мя не спас.
И я промолвил: «Господи,
Блажен ореха стук.
Во всем твой мудрый промысел,
Спасибо, что фундук!».
На наш взгляд, подобная шутка-пародия смотрится удачнее нет-нет да мелькающего Тора с его молотом.
«Гномон», «Ребёнок», «Меоре» тоже выглядят сложившимися текстами.
В целом подкупает стремление автора к созданию новой мифологии. Заметен культурный багаж, вплетение аллюзий. Но сам сборник вызывает ощущение неоднородности. Где-то удачную историю портит банальная концовка, где-то западает смысловая клавиша и читатель остаётся с немым вопросом «И чё?».
При этом сильно балладное начало, а некоторые стихи по атмосфере напоминают детские страшилки (вот эти вот, где «Маленький мальчик по стройке гулял…»).
Так что, несмотря на разную плотность стихотворного текста, читателю остаётся наслаждение собирать удачные стихотворные строки автора. Возможно, сидя с творцом-ребёнком в пустой комнате и рассматривая их через калейдоскоп.